Думали: ДНК — чертёж жизни. Оказалось организмом управляет «мусор»
NewsMakerПочему регуляторные РНК важнее ДНК в определении того, кто вы есть.
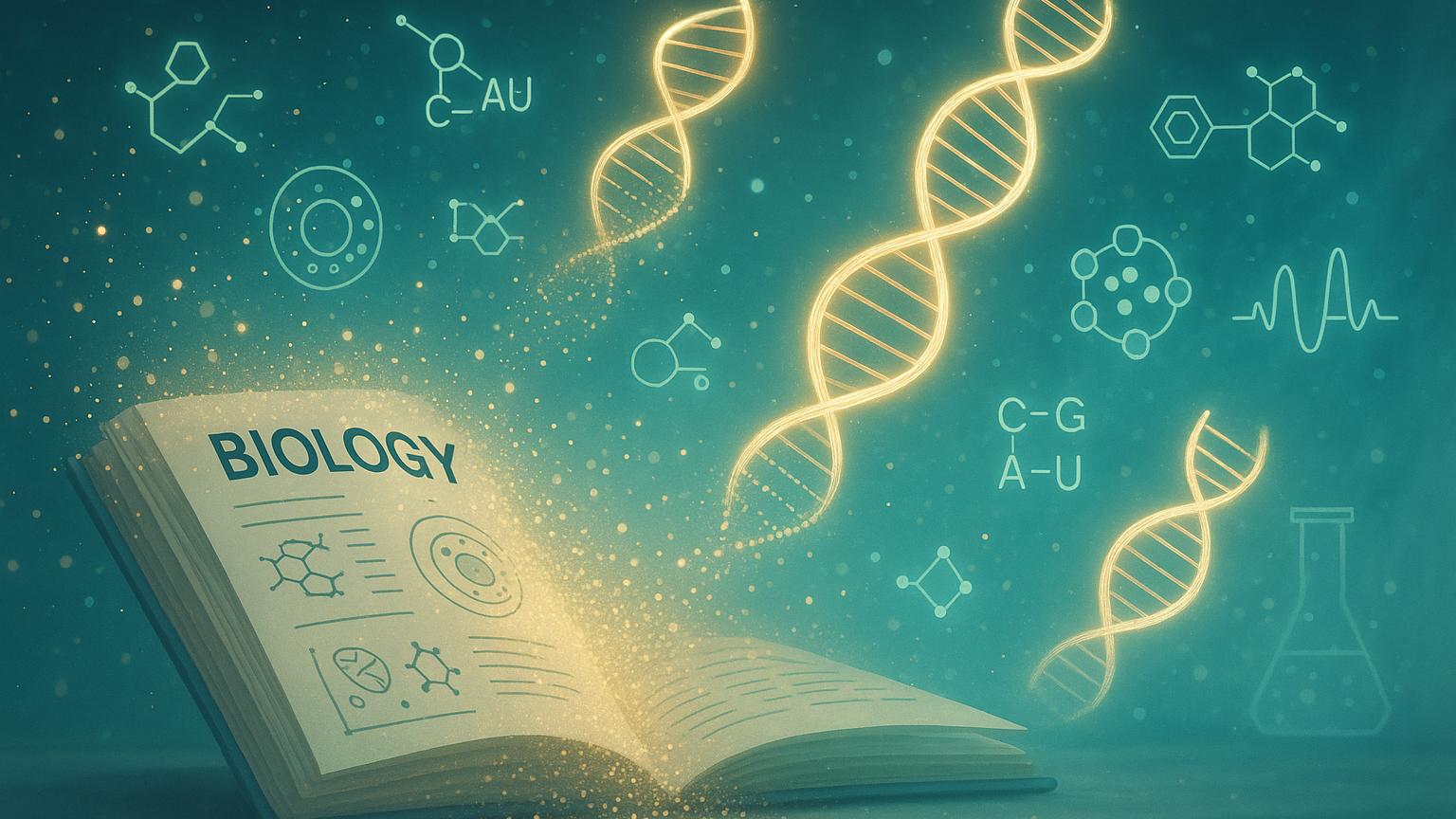
Долгое время биология жила по строгому сценарию: ДНК создаёт РНК, РНК создаёт белки, а белки формируют признаки организма. Эта схема помогала объяснять наследственные заболевания, такие как серповидноклеточная анемия, возникающая из-за единичных мутаций в белках. Однако она охватывает лишь крошечную часть наследуемых признаков — около двух процентов.
Сегодня ясно, что подавляющее большинство мутаций, влияющих на внешний вид и функции организма, находится вовсе не в белках, а в тех участках генома, которые раньше считались «молчащими». Речь идёт о регуляторных зонах и огромном семействе некодирующих РНК. Эти молекулы не создают крупные белки, но играют ключевую роль в управлении тем, какие гены работают, когда и в каком объёме.
Причин две. Во-первых, таких РНК просто очень много. Во-вторых, даже те РНК, которые долгое время считались абсолютно некодирующими, на деле производят сотни тысяч крошечных пептидов — небольших белковых фрагментов. Некоторые оценки говорят о 200 тысячах. С генетической точки зрения это означает, что число «рабочих» генов в организме в десять раз больше, чем мы думали.
Ещё двадцать лет назад, во время работы в Human Genome Sciences, учёные находили стандартные 20 тысяч белковых генов. Но потом открылись десятки тысяч устойчивых и сложных РНК, которые не вписывались в привычную картину. Тогда это казалось загадкой. Теперь понятно, что многие из них выполняют важные функции, а при мутациях могут вызывать вполне конкретные симптомы и болезни.
Представьте себе набор деталей LEGO. Сами по себе кубики — это белки. А вот то, что из них получится — дом, ракета или замок — зависит от инструкции. В роли инструкций выступают как раз некодирующие РНК. Именно они определяют, какие «кубики» нужны, когда их собрать и где разместить. Поэтому у простого червя и человека может быть примерно одинаковое количество белков, но сложность организма зависит от управляющих РНК, а не от количества кирпичиков.
Некодирующие РНК, включая микроРНК и длинные РНК, а также кодируемые ими пептиды, выполняют роль дирижёров. Они активируют или выключают гены, управляют сворачиванием ДНК в хроматин, направляют химические метки на молекулы. При этом они способны менять не только свои функции, но и воздействовать на работу других молекул, не затрагивая саму ДНК .
Есть реальные примеры. Когда клетки подвергаются воздействию ультрафиолета, один и тот же ген может производить сначала обычную белковую РНК, а потом — укороченную не-белковую. Эта новая форма помогает справиться с повреждениями, словно берёт на себя другую задачу. А некоторые «молчащие» РНК вообще содержат мини-инструкции по созданию коротких пептидов, которые управляют ростом клеток, развитием мозга или даже провоцируют рак. Некоторые из них работают как гормоны. То, что раньше считалось мусором, оказывается, участвует в сложнейших процессах.
Роль РНК как носителя наследственной информации уже не ограничивается её промежуточной функцией. У некоторых вирусов РНК — это основной генетический материал. Ретровирусы и ретротранспозоны используют её для создания ДНК и внедрения новых элементов в геном. Примерно половина человеческой ДНК сформировалась именно так. Этот процесс до сих пор влияет на старение и развитие рака.
Современная наука больше не видит наследование как прямую дорогу от ДНК к белку. Теперь это сложная система, где РНК может менять ДНК, регулировать её работу или даже служить шаблоном для создания новых участков. РНК может перемещаться между клетками, а иногда — даже между организмами. Это влияет на иммунитет, развитие и течение болезней.
Новая картина мира признаёт гибкость и избыточность биологических систем. РНК может заменять другие молекулы, совмещать разные роли и образовывать уникальные комбинации. Один и тот же генотип может давать множество вариантов внешности и поведения, а один фенотип может появляться на основе разных генетических схем. Именно это разнообразие лежит в основе эволюции и устойчивости к болезням.
Речь идёт не просто о научной корректировке. Это настоящая революция в понимании того, как устроена жизнь. На практике это уже меняет медицину. Вакцины на основе РНК и терапии с её применением выходят за рамки лабораторий. Технологии вроде РНК-интерференции и CRISPR меняют подход к сельскому хозяйству и биоинженерии . Но для эффективного применения нужно понять, как сделать такие РНК устойчивыми, точными и безопасными.
Этот поворот в науке напоминает, что знания — не догма. Даже базовые схемы подлежат пересмотру. Геном — не чертёж, а живой, чувствительный механизм, управляемый в том числе и РНК. Поняв её сложность и возможности, мы получаем ключ к новым лекарствам, лучшему пониманию болезней и, возможно, более точному представлению о том, что делает нас собой.
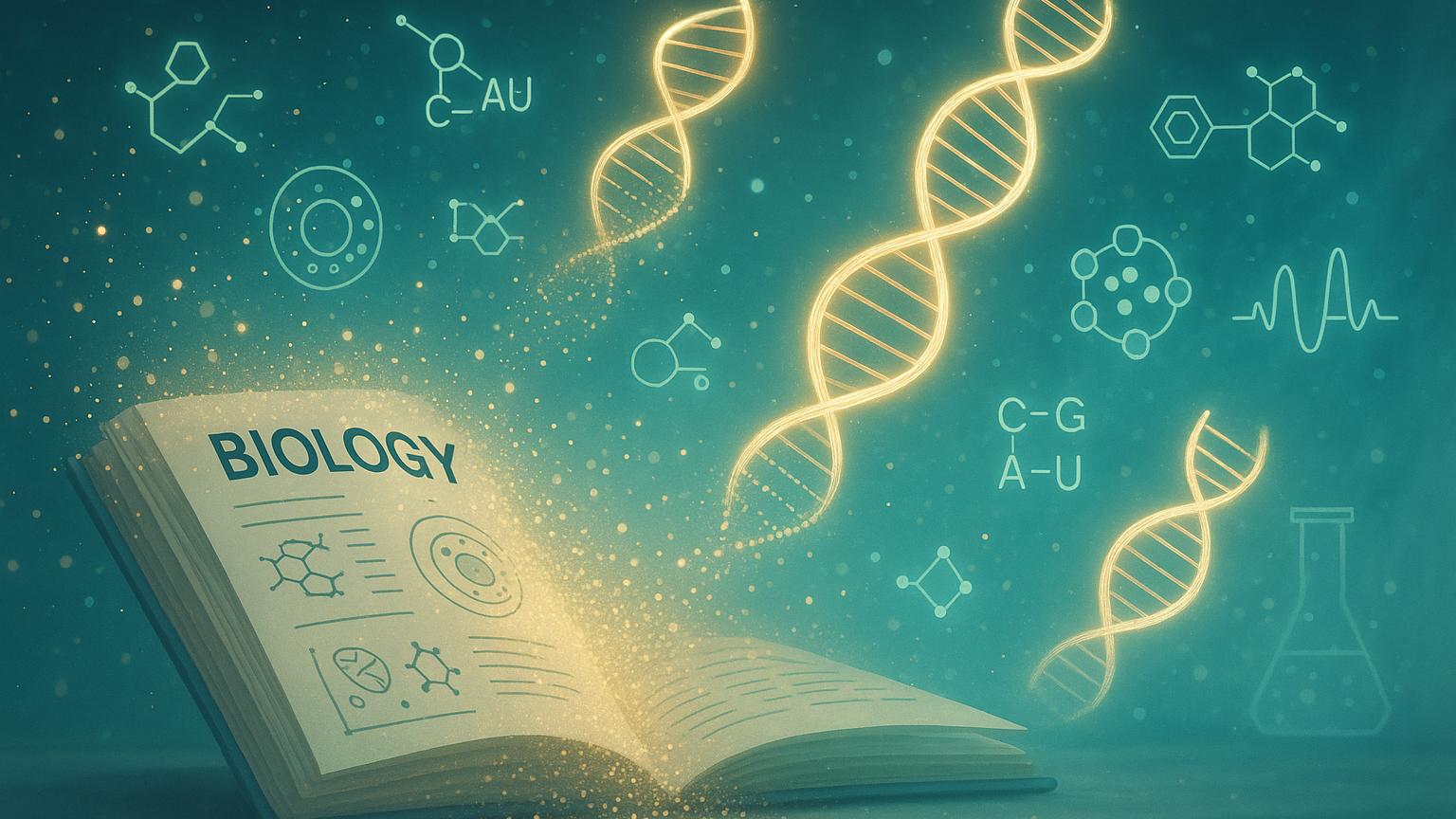
Долгое время биология жила по строгому сценарию: ДНК создаёт РНК, РНК создаёт белки, а белки формируют признаки организма. Эта схема помогала объяснять наследственные заболевания, такие как серповидноклеточная анемия, возникающая из-за единичных мутаций в белках. Однако она охватывает лишь крошечную часть наследуемых признаков — около двух процентов.
Сегодня ясно, что подавляющее большинство мутаций, влияющих на внешний вид и функции организма, находится вовсе не в белках, а в тех участках генома, которые раньше считались «молчащими». Речь идёт о регуляторных зонах и огромном семействе некодирующих РНК. Эти молекулы не создают крупные белки, но играют ключевую роль в управлении тем, какие гены работают, когда и в каком объёме.
Причин две. Во-первых, таких РНК просто очень много. Во-вторых, даже те РНК, которые долгое время считались абсолютно некодирующими, на деле производят сотни тысяч крошечных пептидов — небольших белковых фрагментов. Некоторые оценки говорят о 200 тысячах. С генетической точки зрения это означает, что число «рабочих» генов в организме в десять раз больше, чем мы думали.
Ещё двадцать лет назад, во время работы в Human Genome Sciences, учёные находили стандартные 20 тысяч белковых генов. Но потом открылись десятки тысяч устойчивых и сложных РНК, которые не вписывались в привычную картину. Тогда это казалось загадкой. Теперь понятно, что многие из них выполняют важные функции, а при мутациях могут вызывать вполне конкретные симптомы и болезни.
Представьте себе набор деталей LEGO. Сами по себе кубики — это белки. А вот то, что из них получится — дом, ракета или замок — зависит от инструкции. В роли инструкций выступают как раз некодирующие РНК. Именно они определяют, какие «кубики» нужны, когда их собрать и где разместить. Поэтому у простого червя и человека может быть примерно одинаковое количество белков, но сложность организма зависит от управляющих РНК, а не от количества кирпичиков.
Некодирующие РНК, включая микроРНК и длинные РНК, а также кодируемые ими пептиды, выполняют роль дирижёров. Они активируют или выключают гены, управляют сворачиванием ДНК в хроматин, направляют химические метки на молекулы. При этом они способны менять не только свои функции, но и воздействовать на работу других молекул, не затрагивая саму ДНК .
Есть реальные примеры. Когда клетки подвергаются воздействию ультрафиолета, один и тот же ген может производить сначала обычную белковую РНК, а потом — укороченную не-белковую. Эта новая форма помогает справиться с повреждениями, словно берёт на себя другую задачу. А некоторые «молчащие» РНК вообще содержат мини-инструкции по созданию коротких пептидов, которые управляют ростом клеток, развитием мозга или даже провоцируют рак. Некоторые из них работают как гормоны. То, что раньше считалось мусором, оказывается, участвует в сложнейших процессах.
Роль РНК как носителя наследственной информации уже не ограничивается её промежуточной функцией. У некоторых вирусов РНК — это основной генетический материал. Ретровирусы и ретротранспозоны используют её для создания ДНК и внедрения новых элементов в геном. Примерно половина человеческой ДНК сформировалась именно так. Этот процесс до сих пор влияет на старение и развитие рака.
Современная наука больше не видит наследование как прямую дорогу от ДНК к белку. Теперь это сложная система, где РНК может менять ДНК, регулировать её работу или даже служить шаблоном для создания новых участков. РНК может перемещаться между клетками, а иногда — даже между организмами. Это влияет на иммунитет, развитие и течение болезней.
Новая картина мира признаёт гибкость и избыточность биологических систем. РНК может заменять другие молекулы, совмещать разные роли и образовывать уникальные комбинации. Один и тот же генотип может давать множество вариантов внешности и поведения, а один фенотип может появляться на основе разных генетических схем. Именно это разнообразие лежит в основе эволюции и устойчивости к болезням.
Речь идёт не просто о научной корректировке. Это настоящая революция в понимании того, как устроена жизнь. На практике это уже меняет медицину. Вакцины на основе РНК и терапии с её применением выходят за рамки лабораторий. Технологии вроде РНК-интерференции и CRISPR меняют подход к сельскому хозяйству и биоинженерии . Но для эффективного применения нужно понять, как сделать такие РНК устойчивыми, точными и безопасными.
Этот поворот в науке напоминает, что знания — не догма. Даже базовые схемы подлежат пересмотру. Геном — не чертёж, а живой, чувствительный механизм, управляемый в том числе и РНК. Поняв её сложность и возможности, мы получаем ключ к новым лекарствам, лучшему пониманию болезней и, возможно, более точному представлению о том, что делает нас собой.