На 45% меньше шансов сойти с ума: препараты для веса оказались умнее, чем мы думали
NewsMakerЭффект, о котором не писали в инструкциях, удивил даже исследователей.
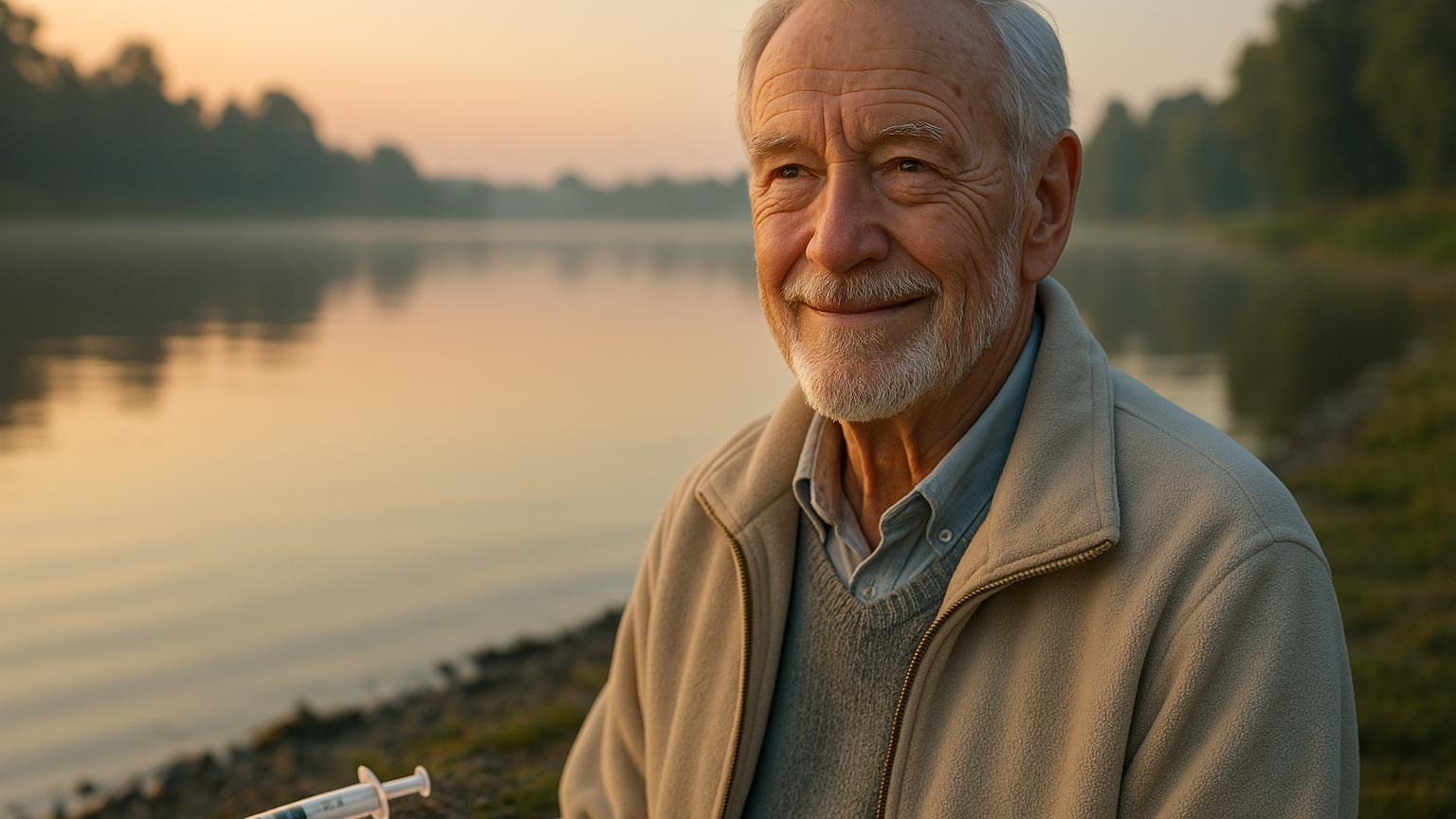
Мы живём в удивительное время. Сегодня рынок предлагает самые эффективные в истории препараты для снижения веса — Ozempic и Wegovy, относящиеся к классу агонистов рецепторов GLP-1. Однако способность помогать худеть представляет собой далеко не самое интересное свойство данных лекарств.
Помимо очевидной пользы в борьбе с ожирением, существуют серьёзные научные данные, подтверждающие, что препараты уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний, болезней печени и снижают общую смертность. Более того, появляется всё больше сообщений о необычных, «внеплановых» эффектах: снижение азартной зависимости, уменьшение употребления алкоголя и наркотиков, отказ от курения и даже сдерживание компульсивных покупок. Складывается впечатление, что не осталось ни одной вредной привычки или системы организма, на которую препараты не оказывали бы положительного влияния.
Ситуация действительно поразительна. Представьте, что когда-то вышли статины, все радовались снижению холестерина, а потом внезапно выяснилось бы, что лекарства восстанавливают волосы или улучшают игру в гольф. Каким образом одно лекарство может оказывать столь разностороннее воздействие?
Ключ к пониманию может скрываться в изменениях поведения. Если человек начинает меньше курить или употреблять алкоголь после начала приёма препаратов — вероятно, изменения происходят в мозге. А если так, логично задаться вопросом: могут ли подобные препараты снижать риск заболеваний мозга, например, деменции? Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале JAMA Neurology, ответ, похоже, положительный.
Когда GLP-1 препараты начали стремительно набирать популярность, возникла необходимость обновить знания о самом глюкагоноподобном пептиде (GLP-1), изучаемом ещё в медицинской школе. Препараты связываются с теми же рецепторами, что и естественный GLP-1, и стимулируют поджелудочную железу вырабатывать больше инсулина при повышении уровня сахара в крови.
Однако препаратов, стимулирующих выработку инсулина, существует множество. И ни один из них не вызывает такого количества других, неожиданных эффектов. Почему же в данном случае всё иначе?
Когда лекарство воздействует на конкретный рецептор, имеет смысл изучить, какие клетки организма обладают такими рецепторами. В контексте обсуждаемой темы особенно показательна одна диаграмма.
Как и ожидалось, рецепторы GLP-1 в большом количестве присутствуют в поджелудочной железе. На втором месте — сердечная мышца, что соотносится с уже доказанным эффектом снижения риска сердечных заболеваний. Далее идут слюнные железы и, что особенно важно, кора головного мозга — область, отвечающая за мышление, память и поведение.
Когда препарат связывается с рецептором на клетке, запускается целый каскад эффектов. В случае мозга — органа сложного и до конца не изученного — подобные эффекты могут быть особенно значительными. Например, в отличие от сердца, для которого уже есть несколько рандомизированных исследований, показывающих, что и GLP-1 препараты, и другие антидиабетические средства (SGLT2-ингибиторы, пиоглитазон, метформин) снижают риск болезней сердца, с мозгом ситуация сложнее. Но вопрос остаётся — смогут ли препараты оказать такую же защиту и от деменции?
Именно на данный вопрос попытались ответить исследователи во главе с Катрионой Реддин. Работа представляет собой масштабный метаанализ, объединивший данные 23 рандомизированных клинических исследований с участием более 150 тысяч человек. Цель — выяснить, снижают ли подобные препараты риск развития деменции.
На данный момент представлены самые убедительные доказательства того, что GLP-1 препараты могут защищать мозг. И только метаанализ способен выявить подобный эффект, поскольку ни одно из включённых исследований не ставило целью изучить деменцию как основной результат.
При разработке клинического исследования необходимо заранее определить, какой именно результат будет считаться главным критерием эффективности — например, снижение веса или уровень смертности. Требование необходимо для предотвращения предвзятого отбора данных. Когда выбран основной критерий, показатель тщательно отслеживают — например, регулярно измеряют вес в одно и то же время, на одних и тех же весах.
Тем не менее, подход не препятствует отслеживанию и других показателей. Логично делать подобные измерения для получения новых идей для последующих исследований. Однако некоторые результаты труднее фиксировать. Смерть, к примеру, — достаточно однозначный исход. А вот деменция — нет.
Чтобы пациенту поставили диагноз деменции, необходимо, чтобы человек сам заметил проблему, обратился к врачу и прошёл обследование. Многие на указанных этапах просто теряются. Если бы деменция была главным критерием в исследовании, существовал бы целый протокол, помогающий пройти все шаги. Но в исследованиях, на которых основан метаанализ, ситуация иная. В большинстве случаев деменция отмечалась как побочное явление — например, в исследовании HARMONY, где албиглутид сравнивался с плацебо на выборке из почти 10 тысяч человек, случаев деменции в группе препарата не было вовсе, а в группе плацебо — три.
Похожая картина наблюдается и в других исследованиях: один случай против нуля, пять против трёх. Даже в исследовании с наибольшим числом таких событий — 12 случаев в группе GLP-1 и 25 в группе контроля — общее число событий было небольшим.
Но именно в подобных ситуациях метаанализ проявляет свою силу: собрав вместе небольшие фрагменты, можно выявить устойчивую тенденцию.
Тенденция оказалась вполне определённой. Люди, принимавшие GLP-1 препараты, имели на 45% меньшие шансы получить диагноз деменции по сравнению с теми, кто получал плацебо. Весьма значимый эффект. Результат может стать основой нового подхода к лечению и профилактике деменции.
Интересно, что другие успешные препараты для диабетиков, такие как SGLT2-ингибиторы, которые доказали свою эффективность в защите сердца, не показали аналогичного эффекта на мозг. Случаи деменции среди участников исследований распределялись равномерно между группами лечения и плацебо.
Что касается метформина, то исследования препарата не вошли в рассматриваемый метаанализ. Хотя другие научные работы предполагают, что у метформина может быть подобный эффект, они не соответствовали строгим критериям включения.
Как интерпретировать полученные результаты? Диабет действительно увеличивает риск деменции, вероятно, за счёт влияния высокого уровня сахара на сосуды. Но если именно данный механизм лежит в основе, почему тогда только GLP-1 препараты показывают защитный эффект, а другие сахароснижающие средства — нет?
Здесь стоит учесть два ключевых отличия. Первое — механизмы действия. Как уже выяснилось, в коре головного мозга активно представлены GLP-1 рецепторы. Второе — побочные эффекты. Оба класса препаратов снижают уровень сахара, но только GLP-1 средства значительно уменьшают массу тела. Возможно, снижение риска деменции связано именно с потерей веса, а не с уровнем сахара в крови.
Пока мы имеем дело лишь с гипотезой. Но появление столь значимого сигнала — серьёзный шаг вперёд. И, возможно, в ближайшем будущем препараты, созданные для борьбы с диабетом и лишним весом, окажутся ещё и средством защиты от одного из самых тяжёлых возрастных недугов — деменции.
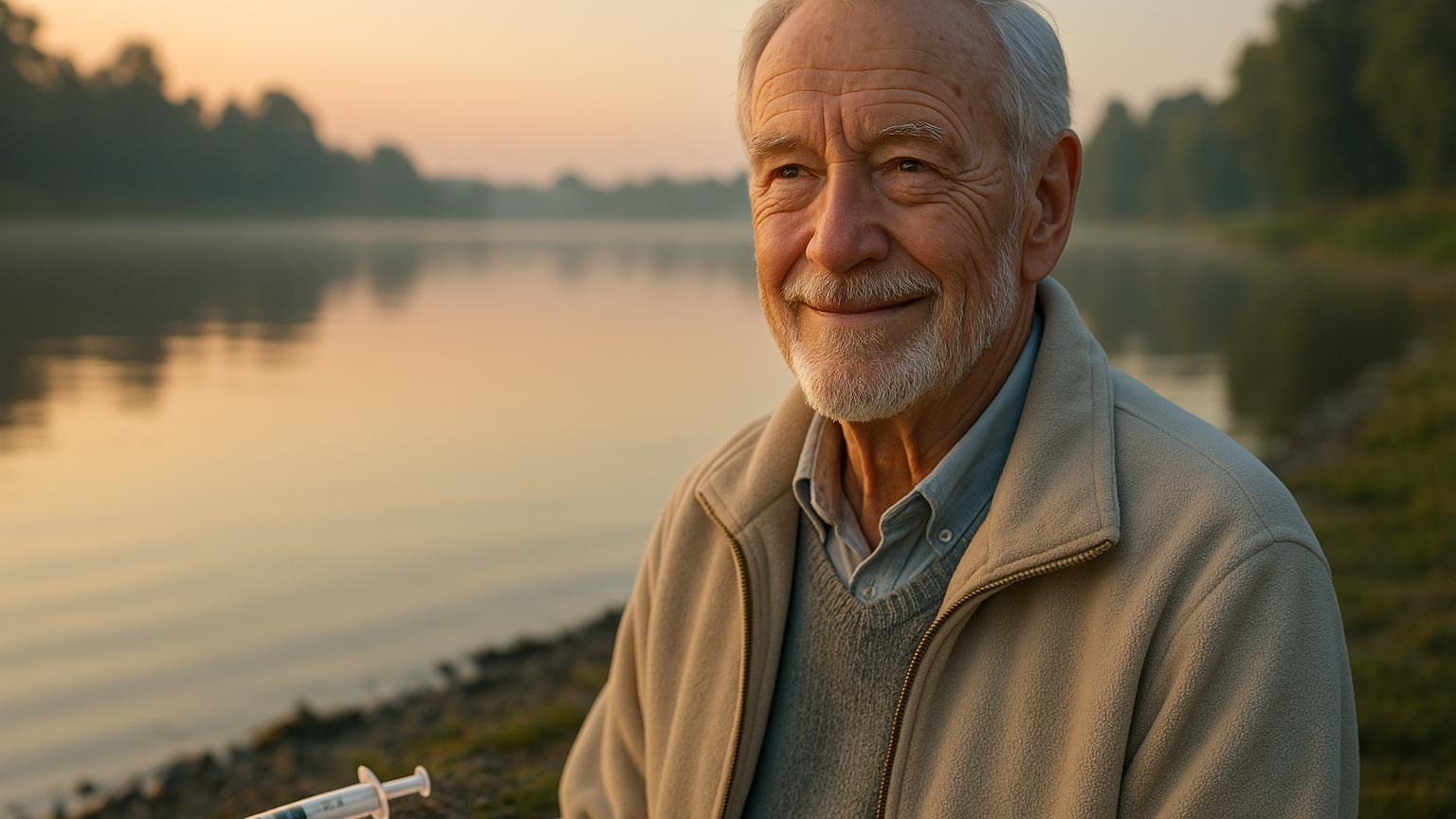
Мы живём в удивительное время. Сегодня рынок предлагает самые эффективные в истории препараты для снижения веса — Ozempic и Wegovy, относящиеся к классу агонистов рецепторов GLP-1. Однако способность помогать худеть представляет собой далеко не самое интересное свойство данных лекарств.
Помимо очевидной пользы в борьбе с ожирением, существуют серьёзные научные данные, подтверждающие, что препараты уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний, болезней печени и снижают общую смертность. Более того, появляется всё больше сообщений о необычных, «внеплановых» эффектах: снижение азартной зависимости, уменьшение употребления алкоголя и наркотиков, отказ от курения и даже сдерживание компульсивных покупок. Складывается впечатление, что не осталось ни одной вредной привычки или системы организма, на которую препараты не оказывали бы положительного влияния.
Ситуация действительно поразительна. Представьте, что когда-то вышли статины, все радовались снижению холестерина, а потом внезапно выяснилось бы, что лекарства восстанавливают волосы или улучшают игру в гольф. Каким образом одно лекарство может оказывать столь разностороннее воздействие?
Ключ к пониманию может скрываться в изменениях поведения. Если человек начинает меньше курить или употреблять алкоголь после начала приёма препаратов — вероятно, изменения происходят в мозге. А если так, логично задаться вопросом: могут ли подобные препараты снижать риск заболеваний мозга, например, деменции? Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале JAMA Neurology, ответ, похоже, положительный.
Когда GLP-1 препараты начали стремительно набирать популярность, возникла необходимость обновить знания о самом глюкагоноподобном пептиде (GLP-1), изучаемом ещё в медицинской школе. Препараты связываются с теми же рецепторами, что и естественный GLP-1, и стимулируют поджелудочную железу вырабатывать больше инсулина при повышении уровня сахара в крови.
Однако препаратов, стимулирующих выработку инсулина, существует множество. И ни один из них не вызывает такого количества других, неожиданных эффектов. Почему же в данном случае всё иначе?
Когда лекарство воздействует на конкретный рецептор, имеет смысл изучить, какие клетки организма обладают такими рецепторами. В контексте обсуждаемой темы особенно показательна одна диаграмма.
Как и ожидалось, рецепторы GLP-1 в большом количестве присутствуют в поджелудочной железе. На втором месте — сердечная мышца, что соотносится с уже доказанным эффектом снижения риска сердечных заболеваний. Далее идут слюнные железы и, что особенно важно, кора головного мозга — область, отвечающая за мышление, память и поведение.
Когда препарат связывается с рецептором на клетке, запускается целый каскад эффектов. В случае мозга — органа сложного и до конца не изученного — подобные эффекты могут быть особенно значительными. Например, в отличие от сердца, для которого уже есть несколько рандомизированных исследований, показывающих, что и GLP-1 препараты, и другие антидиабетические средства (SGLT2-ингибиторы, пиоглитазон, метформин) снижают риск болезней сердца, с мозгом ситуация сложнее. Но вопрос остаётся — смогут ли препараты оказать такую же защиту и от деменции?
Именно на данный вопрос попытались ответить исследователи во главе с Катрионой Реддин. Работа представляет собой масштабный метаанализ, объединивший данные 23 рандомизированных клинических исследований с участием более 150 тысяч человек. Цель — выяснить, снижают ли подобные препараты риск развития деменции.
На данный момент представлены самые убедительные доказательства того, что GLP-1 препараты могут защищать мозг. И только метаанализ способен выявить подобный эффект, поскольку ни одно из включённых исследований не ставило целью изучить деменцию как основной результат.
При разработке клинического исследования необходимо заранее определить, какой именно результат будет считаться главным критерием эффективности — например, снижение веса или уровень смертности. Требование необходимо для предотвращения предвзятого отбора данных. Когда выбран основной критерий, показатель тщательно отслеживают — например, регулярно измеряют вес в одно и то же время, на одних и тех же весах.
Тем не менее, подход не препятствует отслеживанию и других показателей. Логично делать подобные измерения для получения новых идей для последующих исследований. Однако некоторые результаты труднее фиксировать. Смерть, к примеру, — достаточно однозначный исход. А вот деменция — нет.
Чтобы пациенту поставили диагноз деменции, необходимо, чтобы человек сам заметил проблему, обратился к врачу и прошёл обследование. Многие на указанных этапах просто теряются. Если бы деменция была главным критерием в исследовании, существовал бы целый протокол, помогающий пройти все шаги. Но в исследованиях, на которых основан метаанализ, ситуация иная. В большинстве случаев деменция отмечалась как побочное явление — например, в исследовании HARMONY, где албиглутид сравнивался с плацебо на выборке из почти 10 тысяч человек, случаев деменции в группе препарата не было вовсе, а в группе плацебо — три.
Похожая картина наблюдается и в других исследованиях: один случай против нуля, пять против трёх. Даже в исследовании с наибольшим числом таких событий — 12 случаев в группе GLP-1 и 25 в группе контроля — общее число событий было небольшим.
Но именно в подобных ситуациях метаанализ проявляет свою силу: собрав вместе небольшие фрагменты, можно выявить устойчивую тенденцию.
Тенденция оказалась вполне определённой. Люди, принимавшие GLP-1 препараты, имели на 45% меньшие шансы получить диагноз деменции по сравнению с теми, кто получал плацебо. Весьма значимый эффект. Результат может стать основой нового подхода к лечению и профилактике деменции.
Интересно, что другие успешные препараты для диабетиков, такие как SGLT2-ингибиторы, которые доказали свою эффективность в защите сердца, не показали аналогичного эффекта на мозг. Случаи деменции среди участников исследований распределялись равномерно между группами лечения и плацебо.
Что касается метформина, то исследования препарата не вошли в рассматриваемый метаанализ. Хотя другие научные работы предполагают, что у метформина может быть подобный эффект, они не соответствовали строгим критериям включения.
Как интерпретировать полученные результаты? Диабет действительно увеличивает риск деменции, вероятно, за счёт влияния высокого уровня сахара на сосуды. Но если именно данный механизм лежит в основе, почему тогда только GLP-1 препараты показывают защитный эффект, а другие сахароснижающие средства — нет?
Здесь стоит учесть два ключевых отличия. Первое — механизмы действия. Как уже выяснилось, в коре головного мозга активно представлены GLP-1 рецепторы. Второе — побочные эффекты. Оба класса препаратов снижают уровень сахара, но только GLP-1 средства значительно уменьшают массу тела. Возможно, снижение риска деменции связано именно с потерей веса, а не с уровнем сахара в крови.
Пока мы имеем дело лишь с гипотезой. Но появление столь значимого сигнала — серьёзный шаг вперёд. И, возможно, в ближайшем будущем препараты, созданные для борьбы с диабетом и лишним весом, окажутся ещё и средством защиты от одного из самых тяжёлых возрастных недугов — деменции.